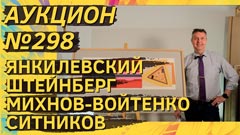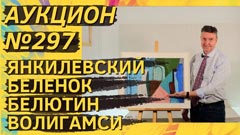ШЕСТИДЕСЯТНИКИ
КРАСНОПЕВЦЕВ Дмитрий Михайлович (1925–1995) Две раковины и камень. 1962. Картон, масло. 31 × 49
Тихий, созерцательный, метафизический натюрморт создает вокруг себя спокойствие и гармонию. Тем удивительнее, что написан он в мятежном 1962 году, когда после разгрома в Манеже вокруг всего независимого искусства сгустились тучи. Впрочем, вполне возможно, что Краснопевцев этого даже не заметил. Он давно жил в своем мире интеллектуальным затворником. Да, работал как все, делал афиши в «Рекламфильме», выполнял комбинатские заказы. А все остальное время художник размышлял о природе вещей, о вечности и мысленно прогуливался по улицам любимого Парижа, где ему так и не суждено было побывать. Суета за московским окном его интересовала лишь постольку-поскольку. Сегодня Краснопевцев входит в число самых дорогих художников послевоенного неофициального искусства. И самых востребованных. Его выставки становятся событием для всей Москвы. А в этом юбилейном году (100 лет со дня рождения) издан долгожданный обновленный каталог живописи и гуашей под редакцией Александра Ушакова. А работы мастера можно увидеть сразу на двух выставках — в музее AZ и фонде «Екатерина».
Наш метафизический натюрморт раньше был в собрании художника Евгения Бачурина. Подлинность подтверждена экспертным заключением Валерия Силаева.
РУССКАЯ КЛАССИКА
КОРОВИН Константин Алексеевич (1861–1939) Перед царским дворцом. Эскиз декорации к опере «Золотой петушок». 1934. Картон, гуашь, белила, тушь. 35 × 45 (в свету)
«Золотой петушок» — знаменитая опера Римского-Корсакова по сказке Пушкина — впервые была поставлена в Москве в 1909 году. Эскизы костюмов и декораций выполнил для нее главный художник императорских театров Константин Коровин. Партию Звездочёта в первых и более поздних зарубежных постановках исполнял тенор Григорий Раисов (Grégoire Raïssoff, сценический псевдоним Григория Галеви). Опера вызвала большой резонанс. Была подвергнута царской цензуре. Удивительно, что при жизни Пушкина его последняя сказка тоже подвергалась цензуре. В частности, были запрещены слова: «Царствуй, лежа на боку» и «Сказка — ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок».
В 1934 году Григорий Иванович Раисов решил восстановить «Золотого петушка» на сцене частного парижского театра Casino в Виши и снова пригласил делать декорации и костюмы Константина Коровина. Художник согласился и разработал новые эскизы для двухсот костюмов и декораций. В новой постановке Раисов снова исполнил партию Звездочёта. Раисов умер в 1973 году. Часть его архива (преимущественно костюмы, декорации и документы) была приобретена Театральным музеем имени Бахрушина. В нем, в частности, находится фотография данного эскиза декорации, оригинал которого хранился в семье наследников Раисова. Позже этот эскиз был продан на французском аукционе. Наша декорация нарисована к сцене третьего акта. Здесь на площади перед дворцом царь Дадон не сдержал обещание Звездочёту и не отдал ему Шамаханскую царицу. Обратите внимание: в центре сцены на спице как раз сидит Золотой петушок. В конце сказки он спорхнет с нее и свершит возмездие.
Константин Коровин — самый известный и самый дорогой «русский импрессионист».
ШЕСТИДЕСЯТНИКИ
ВЕЙСБЕРГ Владимир Григорьевич (1924–1985) Обнаженная. 1977. Ватман, акварель. 49 × 35,5
Довольно большой, музейного уровня рисунок Вейсберга 1977 года. На обороте есть даже дата — 27 октября. Кроме этого, на обратной стороне листа Вейсберг сделал аж четыре подписи в каре. Долгие годы этот рисунок находился в собрании его ученика — Яна Раухвергера. А позже был приобретен в известную московскую коллекцию. Вейсберг был перфекционистом, работал до истощения, до нервных срывов. Как и Краснопевцев, он держался в стороне от коллег и любил повторять, что общего у него с современниками только стена. Художник придумал собственную колористическую систему «невидимой живописи», которую для простоты принято называть «белое на белом».
РОГИНСКИЙ Михаил Александрович (1931–2004) Бутылки в шкафу. Конец 1970‑х — 1980‑е. Картон на фанере, масло, акрил. 97 × 72
Яркая палитра, бутылочная серия — все безошибочно указывает на ранний парижский период. Рогинский уехал во Францию в 1978 году. Жил трудно, бедно. Через несколько лет его палитра померкла, цвета стали более темными. А пока вот так. Рогинский — одна из ключевых фигур второго русского авангарда, представитель «русского поп-арта», или, как он сам называл, «документализма». Его натюрморты и жанровые вещи часто служат напоминанием о серости и враждебности мира.
ШЕЛКОВСКИЙ Игорь Сергеевич (1937) Архитектура‑6. 2009. ДСП, см. т. 69 × 28
Это не беспредметная композиция, а архитектурный пейзаж. Можно предположить, что это вид на город с высоты птичьего полета. А может, ракурс на городские крыши. Как посмотреть. В любом случае вещь стилистически безошибочно узнаваемая, классика Шелковского.
Игорь Шелковский — представитель московского романтического концептуализма, живая легенда нонконформизма. И не только художник, но и деятель неофициального искусства, подвижник. В эмиграции, во Франции, с конца 1970‑х Шелковский издавал журнал «А‑Я», где публиковались тексты и репродукции работ неофициальных художников, остававшихся в СССР. Слайды и тексты для журнала подпольными тропами передавались из Советского Союза с риском для авторов и второго московского редактора.
ЗВЕРЕВ Анатолий Тимофеевич (1931–1986) Портрет (Автопортрет?) 1966. Бумага на картоне, масло. 51 × 37
Зверев особо ценного периода — 1966 года. Мы полагаем, что это не просто мужской портрет, а автопортрет с сигаретой. Уж очень он похож на фотографии молодого Зверева тех лет. Картину видел и одобрил Валерий Силаев, главный эксперт по творчеству Зверева.
СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО
ГУТОВ Дмитрий Геннадьевич (1960) Работать не для выставок. 2013–2019. Холст, масло. 50 × 60
Дмитрий Гутов — современный классик, художник и теоретик искусства. И перед нами не просто холст, а картина-размышление. А как иначе? Текст на английском справа от чужака-примата — это не абракадабра, а цитата из трагедии Шекспира. А точнее, это «Король Лир», акт 3, сцена 2. В тот момент полубезумного короля старшие дочери выгоняют ночью под дождь. И Лир кричит в бессильной ярости:
Злись, ветер, дуй, пока не лопнут щеки!
Потоки, ураганы, затопите
Все колокольни, флюгера залейте!
Вы, серные огни, быстрее мысли,
Предвестники дубы крушащих стрел,
Спалите голову мою седую!
Разящий гром, расплющи шар земной!
Разбей природы форму, уничтожь
Людей неблагодарных семя!
(Перевод Татьяны Львовны Щепкиной-Куперник)
ЗВЕЗДОЧЁТОВ Константин Викторович (1958) Припев. 2018. Холст, акрил. 50 × 40
Константин Звездочётов в конце 1980‑х входил в группу «Чемпионы мира» вместе с Константином Латышевым, Борисом Матросовым и Гией Абрамишвили. Для молодых художников это было веселое время. Резвились как могли. В какой-то момент «Чемпионы мира» даже потребовали, чтобы Верховный Совет повернул русло Волги. А река впадала в Балтийское, а не в Каспийское море.
Сегодня перед нами образцовый Звездочётов — атмосферный, русский, вальяжный, фольклорный. Картина участвовала в его персональной выставке «Привет из Москвы» в 2019 году — ее до сих пор можно рассмотреть на фото экспозиции из галереи XL.
- Войдите, чтобы оставлять комментарии