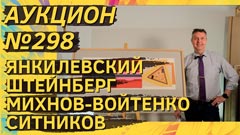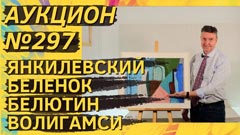ШЕСТИДЕСЯТНИКИ
ВЕЙСБЕРГ Владимир Григорьевич (1924–1985) Композиция с кубами. 1980. Холст, масло. 47 × 46
Вейсберг на пике формы. Шедевр музейного уровня, который повидал стены Пушкинского музея, участвовал в выставке 2006 года и опубликован в монографии Хлопиной с фотографией на странице 240. Безупречная вещь!
О степени тщательности и сложности метода Вейсберга можно судить по записям, которые сам художник сделал на подрамнике. Эта картина написана в шесть проходов — в шесть слоев. Вейсберг их буквально перечисляет: «1-й слой проклейка / 2-й проклейка / 3-й эмульсия / 4-й эмульсия / 5-й клеевая шпаклевка / 6 эмульсия».
Так и рождается шедевр. С воздушной атмосферой, с удивительным сфумато, где из тумана проступают идеальные в своей простоте геометрические фигуры.
«Русский Моранди» Вейсберг о своем месте в искусстве отвечал так: «Общего у меня с современниками — только стена». Он был членом МОСХа, дружил и выставлялся с шестидесятниками, но при этом оставался внутренним затворником. Да и не только внутренним. Его святая святых была комната в коммуналке на Арбате со стенами, выкрашенными в белый цвет. Там он изобретал свое «белое на белом», работал до душевного и физического изнеможения. После сеанса «белого на белом» он запирался в темноте и закрывал глаза, чтобы белый перестал пульсировать. К счастью для искусствоведов и экспертов, Вейсберг был педантом и составил перечень своих живописных работ, написанных с 1943 года. Сегодня по этому списку легко сориентироваться экспертам. Наша «Композиция с кубами» фигурирует в нем под номером 618 на стр. 295 монографии Хлопиной «Влюбленный в классическое искусство. Живопись В. Г. Вейсберга в традиции колоризма».
ШТЕЙНБЕРГ Эдуард Аркадьевич (1937–2012) Натюрморт с раковиной. 1966. Холст, масло. 54,5 × 79,5
Опубликованный Штейнберг. Доэмиграционный. С понятным провенансом и аукционной историей.
Вещь знаточеская. Ценная. Ведь это самое начало. Старт зрелого Штейнберга. До первого вторжения на территорию супрематизма Малевича остается еще года три, а до характерного геометрического периода так и вовсе лет 6–8.
Работа красивая. Во времени. Меланхолическая, но без трагизма. Этот светлый натюрморт со слаборазличимыми предметами по аналогии с Вейсбергом можно отнести к «бежевому на бежевом».
Картина долгое время находилась за рубежом. Несколько лет назад ее купили на «Сотбисе» и привезли в Москву. «Натюрморт с раковиной» вошел в каталог произведений живописи Штейнберга, составленный Галиной Маневич и Анной Чудецкой. Фото опубликовано на странице 660.
ВЕЧТОМОВ Николай Евгеньевич (1923–2007) Горизонтальная гармония. 1999. Оргалит, масло, лак. 30 × 81
На рубеже 2000-х живопись Вечтомова претерпела последний эволюционный виток. Палитра стала более яркой, красочный слой более плотным, а фирменный красный отблеск стал оранжево-огненным. Но формы, «персонажи», биоморфные образы — все это осталось прежним, узнаваемым, безошибочно вечтомовским.
Сам он считал, что его образы-вспышки — это воспоминания о взрывах, которых он вдоволь насмотрелся на фронте. Впрочем, вполне возможно, что это просто авторская метафора в ответ на надоедливые «что и почему». Его стиль настолько уникальный, что каждый называет его на свой лад: биоморфным сюрреализмом, космизмом, лирическим экспрессионизмом и даже символьным абстракционизмом (что бы это ни значило).
После войны Николай Вечтомов сблизился с Лианозовской группой. Он дружил с Оскаром Рабиным и Владимиром Немухиным (с Немухиным они даже долго делили мастерскую). Вместе с друзьями Вечтомов участвовал в нескольких этапных выставках неофициального искусства: в клубе «Дружба» в 1967 году, в павильоне «Пчеловодство» на ВДНХ в 1975-м и, наконец, в «Другом искусстве» в Третьяковской галерее в 1991-м.
ЗЕЛЕНИН Эдуард Леонидович (1938–2002) Аквариум. 1958. Холст, масло. 75 × 54
Холст смонтирован на современный деревянный планшет, оборот скрыт. Но большинству не нужно никаких подписей и надписей, чтобы безошибочно определить, что перед нами картина Эдуарда Зеленина. Причем работа высшего разбора.
В СССР Зеленин выставлялся на квартирных выставках, в посольствах, в домах культуры физиков, в молодежных кафе. В 1974 году он пришел на Измайловскую выставку, был замечен, получил гневную отповедь в «Вечерней Москве». И, вероятно, понял, что дожидаться нечего. В 1976 году Зеленин эмигрировал во Францию. Там было то вверх, то вниз. Были и успешные галерейные этапы, были выставки «Музея русского современного искусства в изгнании», основанного Александром Глезером. А потом началась Перестройка. И интерес к новому русскому зарубежью вскоре пошел на спад. Зеленин не дожил до времен триумфального возвращения шестидесятников в России и до успеха на западных аукционах. В 2010-м его картина «Лейда с яблоком» была продана на «Сотбисе» за 45 000 долларов.
НАИВНОЕ ИСКУССТВО
ПУРЫГИН Леонид Анатольевич (1951–1995) Пипа. 1994. Бумага, синий карандаш. 41 × 20,5
«Леню Пурыгина Гениального из Нары» называют «русским Босхом» за создание особого мира, населенного искренними мифическими персонажами. Считается, что его персонажи явились ему после клинической смерти, которую художник пережил в 18 лет после попытки суицида.
Его Пипа — это придуманное «божество», женщина-демон, гарпия, ведающая материальным миром. Противоположность Пипы — пурыгинская «Голубая женщина», олицетворяющая ангельское начало, берегущая его от разрушительных страстей.
Пурыгин умер молодым, от инфаркта в 44 года. Самоучка из кружка рисования ДК Наро-Фоминска сегодня входит в число самых дорогих художников послевоенного неофициального искусства. Аукционный рекорд для его работ составляет 177 тысяч долларов.
ШЕСТИДЕСЯТНИКИ
ЯКОВЛЕВ Владимир Игоревич (1934–1998) Женский портрет. Конец 1960‑х — начало 1970‑х. Бумага, гуашь. 86 × 61
Этот портрет происходит из собрания художника-нонконформиста Виталия Львовича Стесина (1940–2012), друга Владимира Яковлева и художника Михаила Гробмана. Да, того самого «Виталика Стесина», которого часто упоминает в своих дневниках первый популяризатор яковлевского таланта Михаил Гробман.
Большой ватман датируется экспертом концом 1960-х — началом 1970-х годов. А точнее и не определить. Яковлев редко ставил подписи и еще реже датировал свои работы. Не любил. Поэтому коллекционеры знают, что очень многие подписи и даты на самом деле владельческие или сделаны много позже.
Вещь импульсивная, сложная, «больная», знаточеская. Эксперт Валерий Силаев отмечает, что «это мощная, сложно написанная, прочувствованная работа художника, хорошо отражающая определенный период его творчества».
- Войдите, чтобы оставлять комментарии