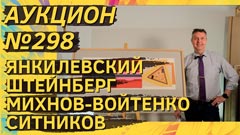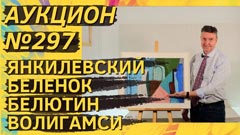ШЕСТИДЕСЯТНИКИ
КОМАР Виталий Анатольевич (1943) и МЕЛАМИД Александр Данилович (1945) Перерыв на конференции. 1984–1985. Холст, масло, цветная фотография на дереве. 34 × 99
Вещь заводная и не сказать, что совсем уж фантастическая. Не из тех, что в голове не укладываются. Конференция — дело долгое, утомительное. Делегаты заскучали. А в перерыве чего только не бывает!
Комар и Меламид — изобретатели термина «соц-арт», который они придумали в 1972 году. В нем сочетается гротескность американского поп-арта и образы соцреализма. Художники придумали доводить до абсурда символы идеологической пропаганды. Догадались, что стоит сделать полшага вперед — и агитация превращается в китч. После Бульдозерной выставки 1974 года Комара и Меламида исключили из Союза художников СССР. Через три года они эмигрировали в Израиль, потом в США. Где не потерялись в конкурентной культурной среде, а, наоборот, стали драйверами художественной движухи. В частности, именно они провели вызывающий перфоманс «Скупка душ», в ходе которого им подписал купчую на свою душу сам Энди Уорхол. В 2003 году дуэт распался.
Комар и Меламид всегда стоили дорого. Ими занимались известные галереи. А с 2010 года они входят в топ‑5 самых дорогих художников послевоенного неофициального искусства, после того как картина «Встреча А. Солженицына и Г. Бёлля на даче М. Ростроповича» продалась на Филлипсе дороже миллиона долларов.
Картина «Перерыв на конференции» участвовала в нескольких выставках. Свое турне она начала в 1985 году (в год создания) с музея в Эдинбурге, была опубликована в каталоге Питера Воллена Komar & Melamid. А в 2019 году ее можно было увидеть на персональной выставке в Московском музее современного искусства.
КРАСНОПЕВЦЕВ Дмитрий Михайлович (1925–1995) Гульгумин. 1958. Картон, масло. 30 × 15,5
Этот красивый камерный натюрморт 65 лет назад Краснопевцев подарил поэтессе Музе Павловой. На обороте есть его дарственная надпись и подпись. Позже «Гульгумин» перешел в собрание ее сына — известного джазмена Германа Лукьянова. Дальше натюрморт оказался в европейском собрании, потом на английском аукционе. И вот круг замкнулся, вещь снова в Москве. Александр Ушаков включит ее в новое издание каталога живописи и гуашей Краснопевцева в раздел с картинами 1958 года.
Источником вдохновения для этого натюрморта послужил, скорее всего, необычный кусок дерева, обточенный морем и изъеденный короедами. А может быть, туф. Друзья привозили художнику со всего света экзотические ракушки, колючки, сухие растения — знали, что для Краснопевцева это лучший подарок. Но почему вдруг «гульгумин»?
Краснопевцев дал такое название в качестве метафоры чего-то красивого, странного и необъяснимого. Такого и слова-то, можно сказать, нет. «Гульгумин», или «глюглевица», — это предмет-шутка из русских анекдотов — загадочная фольклорная вещь, которую нельзя описать, можно только увидеть. Как им пользовались, можно прочитать в рассказе Валентина Вакса «Воспоминания об АБ» — про физика Аркадия Бенедиктовича Мигдала. Изготовление гульгумина-глюглевицы — процесс очень долгий и загадочный. Выглядеть предмет должен внушительно. А если кинуть его в воду, то он издаст красивое бульканье «гуль-гуль» или «глюг-глюг». И в этом-то и состоит его единственное предназначение.
РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
БУРЛЮК Давид Давидович (1882–1967) Морской пейзаж. Бонин (Огасавара). 1920‑е — вторая четверть XX века. Холст на картоне, масло. 20 × 25,5
«Морской пейзаж» относится к особо ценному японскому периоду Бурлюка. Такие картины в принципе большая редкость. За последние шесть лет работы мы продаем такую впервые.
Япония, судя по биографическим исследованиям, изначально рассматривалась Бурлюком лишь как перевалочный пункт в Америку. Художник с женой, двумя маленькими детьми, сестрой и другими членами семьи уезжал через всю Россию от голода и войны. Чтобы прокормить семью, он устраивал выставки в Чите и Владивостоке, читал лекции о революционном футуризме (за что его чуть не расстреляли белоэмигранты в Харбине). В Японию тоже было просто так не попасть. Бурлюк ждал соответствующей оказии и искал протекции. И у него получилось.
В октябре 1920 года Бурлюк прибыл в японский порт Цуруга и тут же включился в работу. Нужны были деньги, связи, проекты, чтобы продержаться до американской визы. И опять у него все получилось. Художник нашел единомышленников в среде японских футуристов, организовал выставки в Токио, Осаке и других городах, стал яркой фигурой в художественной жизни островов. Интересно, что, как и многие другие русские, Бурлюк сразу оказался «под колпаком» у местной разведки. За ним было установлено наблюдение. Для японских властей все русские были потенциальными шпионами, а футуристы — еще и возмутителями спокойствия. Но, несмотря на это, Бурлюку не препятствовали и даже помогли встать на ноги. Его странные для японского глаза картины купили представители японской императорской семьи и госадминистрации. И художник явно воспрял. За год он скопил достаточно денег, чтобы закупить холсты и краски и увезти семью зимовать на теплые тропические острова Бонин (другое название — Огасавара). Судя по воспоминаниям, это было счастливое и плодотворное время. В этот период Бурлюк сделал всего несколько футуристических картин, а большинство было как раз, как у нас, — импрессионистические пейзажи. Японские власти не досаждали художнику. Они присылали «тайную» слежку — топтуны под видом покупателей внимательно проверяли обороты картин, не понимая, что понадобилось русским художникам в этих краях. Так и не поняли. Но на всякий случай через несколько месяцев установили на острове табличку «Фотографировать и рисовать запрещено».
А уже было и не нужно. В апреле 1922 года семья получила американскую визу, и началось их «Путешествие во вторую жизнь». Многие картины двухлетнего японского периода Бурлюк забрал с собой в Америку.
Пейзаж с острова Бонин сопровождается экспертным заключением Юлии Рыбаковой. Кроме того, на обороте есть удостоверяющая надпись Ноберта Евдаева, исследователя творчества и автора книг о Давиде Бурлюке. Написано вот что: «Остров Бонин. 1920 год. Удостоверяю подлинность работы Д. Бурлюка с сюжетом "Остров Бонин в Японии" Nobert Yev… (Евдаев)».
СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО
ВОЛИГАМСИ Ринат (1968) Здесь нельзя! Здесь можно! 2005. Диптих. Холст, принт, нитки, авторская техника. 55 × 70 (каждая)
Просили концептуального Волигамси? Вот и он! Это диптих. Офисный пейзаж, в основе которого принт и авторская вышивка нитками. На мониторе с левого стола висит заставка «Здесь нельзя!» А через два шага вправо на таком же мониторе светится «Здесь можно!» Вроде бы ситуация сложного выбора. Ну, стулья-то все равно одинаковые. Так стоит ли ради этого выбирать таблетки Морфеуса в этой парадоксальной офисной «Матрице»?
ШЕСТИДЕСЯТНИКИ
БЕЛЕНОК Пётр Иванович (1938–1991) Турбулентность. 1991. Картон, масло, тушь, см. т. 35 × 50
Обратим внимание на три вещи. Это картон, это масло, это необычная палитра. Провенанс — безупречный. Сюжет — классический. Словом, отличный старт «панического реализма» в формирующейся коллекции.
ЗВЕРЕВ Анатолий Тимофеевич (1931–1986) Молодые сосны. Сокольники. Вторая половина 1950‑х. Бумага, акварель, присыпки. 29 × 40
Рисунок происходит из известного собрания Татьяны Флегонтовой. Он опубликован на 161 странице книги «Нонконформисты» Натальи Синельниковой. Перед нами молодой, полный сил, Зверев конца 1950‑х годов. С куражом, с настроением, с виртуозным движением. В ход шли простые акварельные краски, вода из лужи, присыпки, даже соль — все что угодно. Эксперт Валерий Силаев отмечает не просто уникальность этой работы, а фееричность результата.
- Войдите, чтобы оставлять комментарии