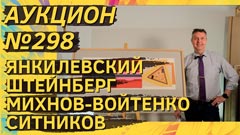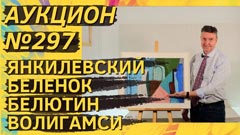ШЕСТИДЕСЯТНИКИ
ЯКОВЛЕВ Владимир Игоревич (1934–1998) Портрет Н. Кряквиной. 1979. Холст, масло. 100 × 80
Здесь просится процитировать финал «Формулы любви» Григория Горина: «Кто был изображен на сем рисунке и что означали эти люди в судьбе великого магистра, историкам так и не удалось установить». Кто такая Кряквина? Яковлев написал имя модели на обороте, но в отведенное время наши поиски результата не дали. Впрочем, дело не безнадежное. Портрет происходит из собрания сестры Яковлева — Ольги. И скорее всего, изображена одна из знакомых семьи. Впрочем, тут важнее не кто, а как. Портрет выполнен в редкой и особо ценной дивизионистской манере — в духе его «портретов ветра». Вещь вдохновенная, прочувствованная, с неизменным цветком в руках. По сути, это были последние лучи перед долгими темными временами в судьбе Яковлева. После 1979 года его психическое здоровье сильно ухудшилось. Зрение падало. Работать становилось все тяжелее.
Подведем итог. «Портрет Кряквиной» — метровое масло музейного уровня. Здесь есть все: фирменный сюжет, дивизионизм-пуантилизм, хороший год. Но самое главное — в картине есть яковлевский нерв, экспрессия, напряжение — все то, что особо ценят знатоки его творчества.
ЗВЕРЕВ Анатолий Тимофеевич (1931–1986) Сосны. 1969. Холст на картоне, масло. 49 × 39,5
Работа очаровала с первого взгляда. Безусловная творческая удача! 1969 год. Зверев в своей лучшей форме. Перед нами его предельно узнаваемые сосны — либо в Сокольниках, либо на Николиной горе, где была дача его музы Асеевой. И над всем этим фантастической красоты розовеющее закатное небо. Чувствуется, что в тот раз Зверев работал с удовольствием, без спешки, без показной зрелищности, вдохновенно — на результат. И результат не заставил себя ждать — из-под кисти мастера вышел настоящий шедевр камерного формата.
КУПЕР Юрий Леонидович (1940) Ледяные цветы № 2. 2010. Стекло, холст, масло. 60 × 50
Мы привыкли, что работы Купера любят тень. Обычно именно минимум освещения позволяет им по-особому раскрываться, усиливает эффект сфумато и скрывает намеренные несовершенства. Но нынешние «Ледяные цветы» — это исключение. Этой работе, наоборот, показан яркий свет. Дело в том, что волшебник Купер придумал картину-сэндвич, верхние слои которой состоят из нескольких прокрашенных стекол, а последний слой представляет собой холст с изображением цветка. Прием позволил создать оптическую иллюзию, невозможную для плоской живописи. Стоит направить на картину лампу (лучше даже под углом), как картина вспыхивает неожиданными переливами. Фотография этот эффект передать неспособна.
ШТЕЙНБЕРГ Эдуард Аркадьевич (1937–2012) Композиция (декабрь 1987 года). 1987. Холст, масло. 80,5 × 76
1987 год — предотъездный. В 1988‑м Штейнберга по ускоренной процедуре примут в Союз художников и отпустят во Францию на выставку. Там он и останется. Начнет работать с галереей Клода Бернара, проведет множество выставок по всей Европе (включая Германию и Францию), а летом будет приезжать в любимую Тарусу на рыбалку.
«Композиция (декабрь 1987 года)» — классическая метагеометрия Штейнберга с супрематическими первосимволами. По практике, это самый востребованный среди коллекционеров формат. Подлинность работы подтверждена экспертным заключением Валерия Силаева.
РОГИНСКИЙ Михаил Александрович (1931–2004) Прохожие. 1990. Холст, масло. 108 × 47,5
Парижский по периоду и совершенно московский по духу Рогинский. Точнее, советско-московский. Рогинский эмигрировал в 1978 году. А тут на дворе 1990 год. Мрачные улицы, мартовский снег на подоконниках, куда-то топают работяги… Нет, не французская атмосфера.
Шестидесятник Михаил Рогинский называл свой стиль «документализмом». Но нам проще запомнить термин «русский поп‑арт» — по названию резонансной выставки, где участвовали его работы. Его поп‑арт не праздничный, не яркий, а чаще, наоборот, «поэзия депрессии» — «достоевщина» в живописи, хоть это и звучит несколько вульгарно. Его оценки реальности слишком резки, живописные средства слишком лаконичны, палитра слишком узка. Но именно все это делает Рогинского одним из самых последовательных критиков «советской идентичности» в послевоенном неофициальном искусстве.
РУССКАЯ КЛАССИКА
МАЛЯВИН Филипп Андреевич (1869–1940) В саду. Женский портрет. 1930‑е. Бумага, цветные карандаши, графитный карандаш. 35,6 × 27
Филипп Малявин — участник объединения «Мир искусства» и «Союза русских художников», из числа первых имен в русской классике. До революции императорские академики лишь посмеивались над автором жизнерадостных портретов русских баб. И это еще мягко сказано. А вот в Париже на всемирной выставке ему дали за них золотую медаль. Неудивительно, что художник горячо принял революцию, создал серию портретов Ленина и удостоился при большевиках первой персональной выставки. Но дальше произошло разочарование. В 1922 году художник эмигрировал во Францию. Умер в Ницце в 1940‑м. Подлинность графики подтверждается экспертным заключением Центра экспертизы имени Репина.
ШЕСТИДЕСЯТНИКИ
СНЕГУР Игорь Григорьевич (1935) Импульс. 1988. Холст, акрил. 100 × 120
Большая картина ценного «линеарного периода» шестидесятника Игоря Снегура. Опубликована в его монографии.
БЕЛЮТИН Элий Михайлович (1925–2012) Человек в 50 лет. Модуль. 1993. Холст, масло. 100 × 80
Метровый философский Белютин — картина капитана студии «Новая реальность». С подтверждением Валерия Силаева.
НЕЙ Александр (1939) Спокойствие. 2005. Терракота. 28 × 13 × 12. Высота на деревянном постаменте: 31 см
Ней — псевдоним скульптора и художника Александра Удино-Нежданова, бывшего ленинградца, с 1972 года живущего и работающего в Америке.
СВЕШНИКОВ Борис Петрович (1927–1998) Пейзаж. 1967. Бумага, акварель. 40,5 × 59,5
В 1967 году этот рисунок Свешников подарил на Пасху итальянскому коллекционеру Альберто Сандретти, который в то время работал представителем FIAT в СССР. На обороте сохранилась подарочная надпись. А сама работа опубликована в каталоге собрания Сандретти.
- Войдите, чтобы оставлять комментарии